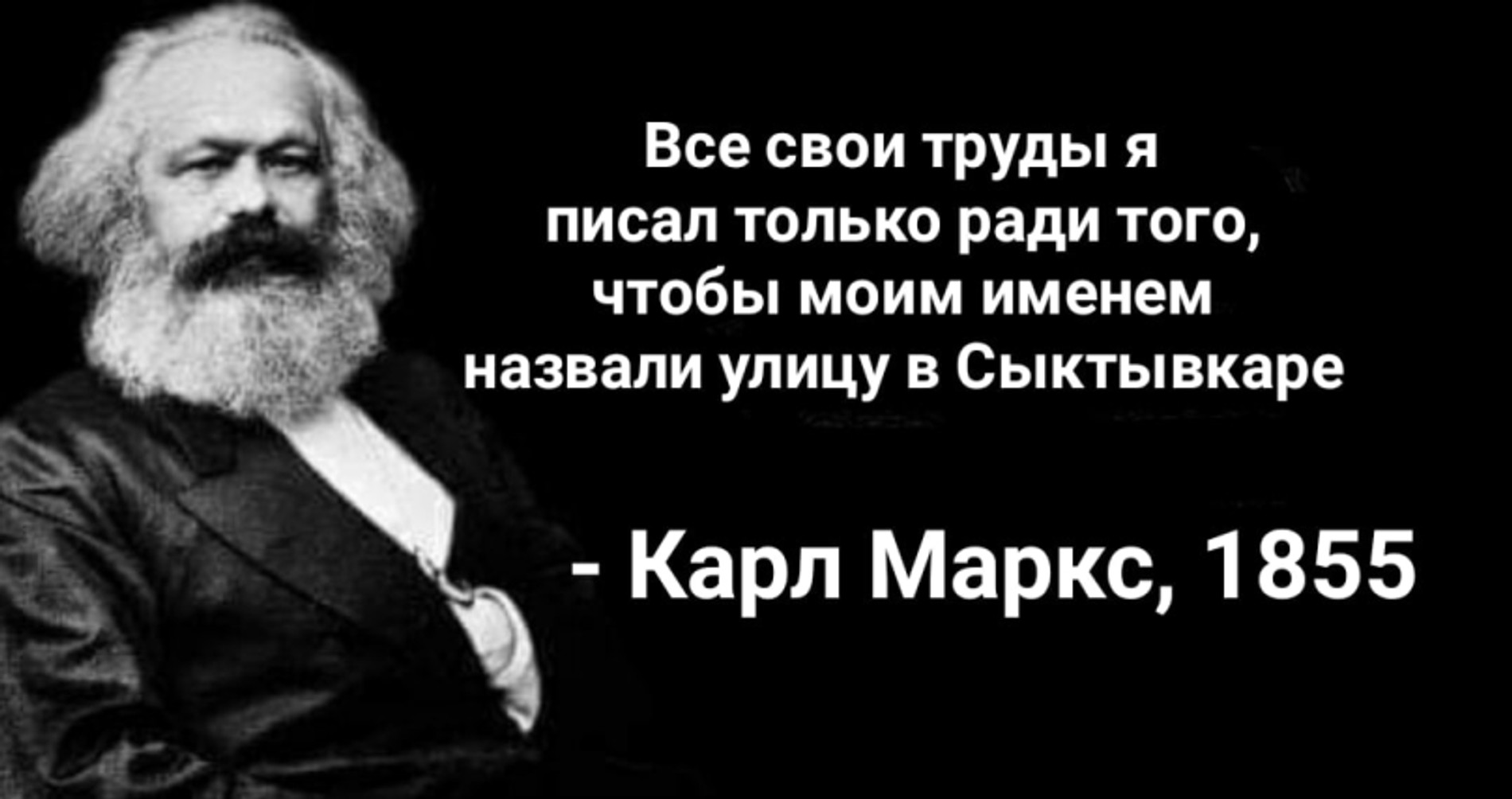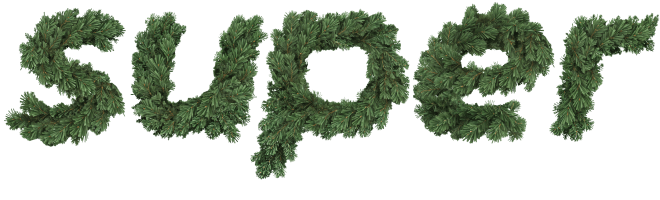«Трудно найти, легко потерять»: почему в соцсети ВКонтакте больше нет глупых статусов
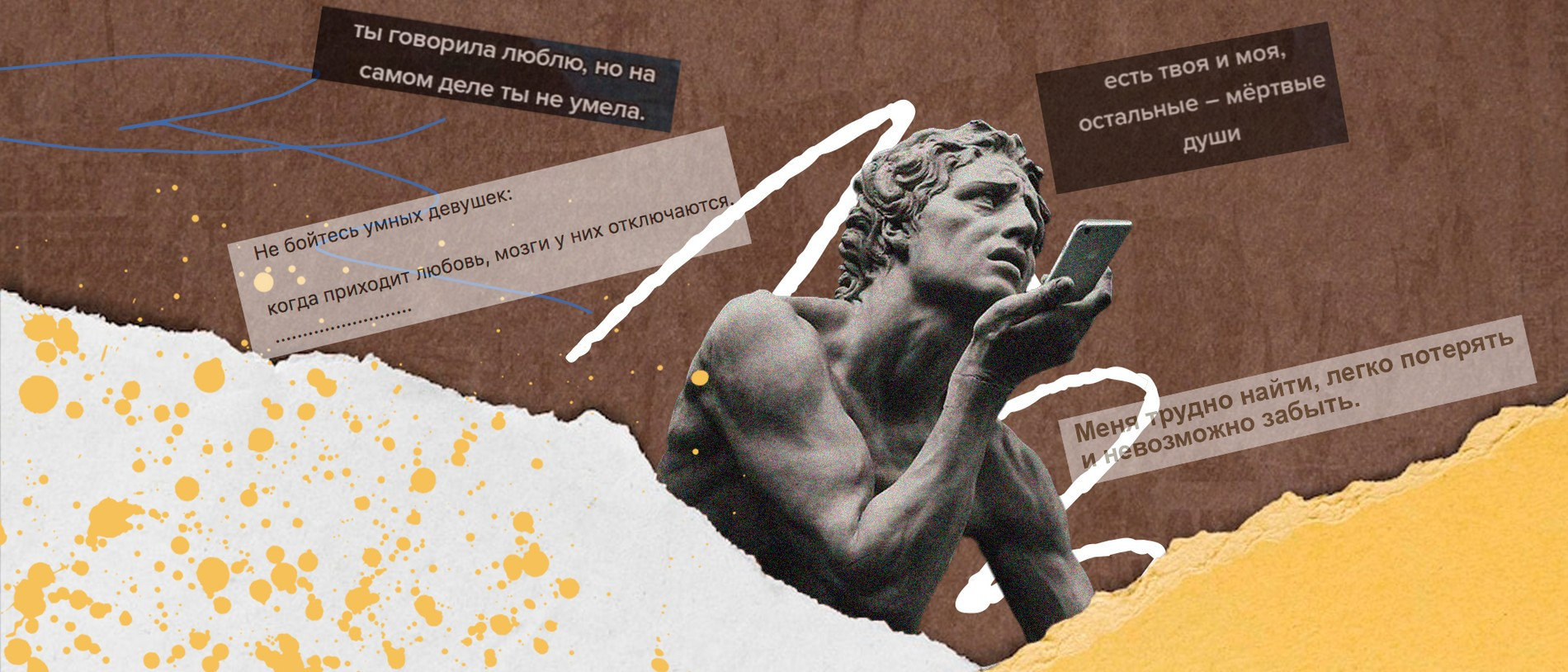
Когда-то деревья были большими, трава зеленой, а социальные сети искрились нефильтрованным гнозисом. В ранних десятых хорошим тоном считалось держать голову в холоде, а аккаунт — в соцветии причудливых сентенций. «Если я тебе не нравлюсь — застрелись, я не исправлюсь», «пока ты к девочкам лип, я ловила бэдтрип», «С.У.К.А. — стерва, умеющая казаться ангелом» — все это и многое другое мы заучили навсегда.
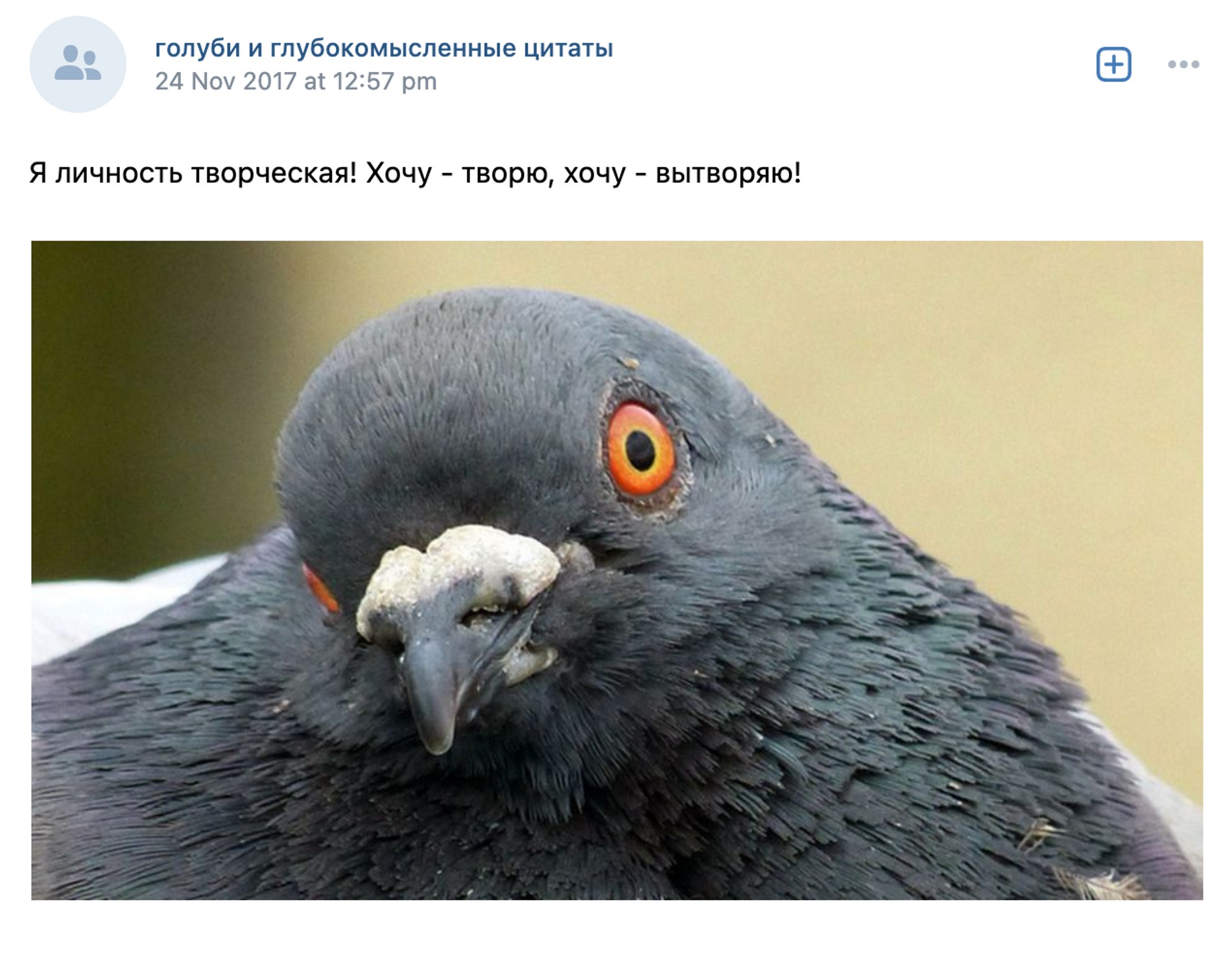
Явление было не ново: люди питали слабость к емким, но метким тирадам с начала времен. Особенно отличились тут древние: чего только стоит homo hominis lupus est или пресловутое in vino veritas. Не брезговали афоризмами и поздние мыслители: философская притча «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше почти целиком начинена лозунгами в стиле «идешь к женщине — бери плетку».
Но время шло, традицию писательства трюизмов во ВКонтакте настигли жернова постмодернизма. «Дуров, верни стену!» — кривилось в судорогах онлайн-сообщество. Но прогресс был неумолим: грустные статусы повторили судьбу большой литературы, мир разъела зубоскальская ирония. Народное творчество вошло в измерение пастиша: цитаты стали коверкать, а их авторство — приписывать самозванцам.
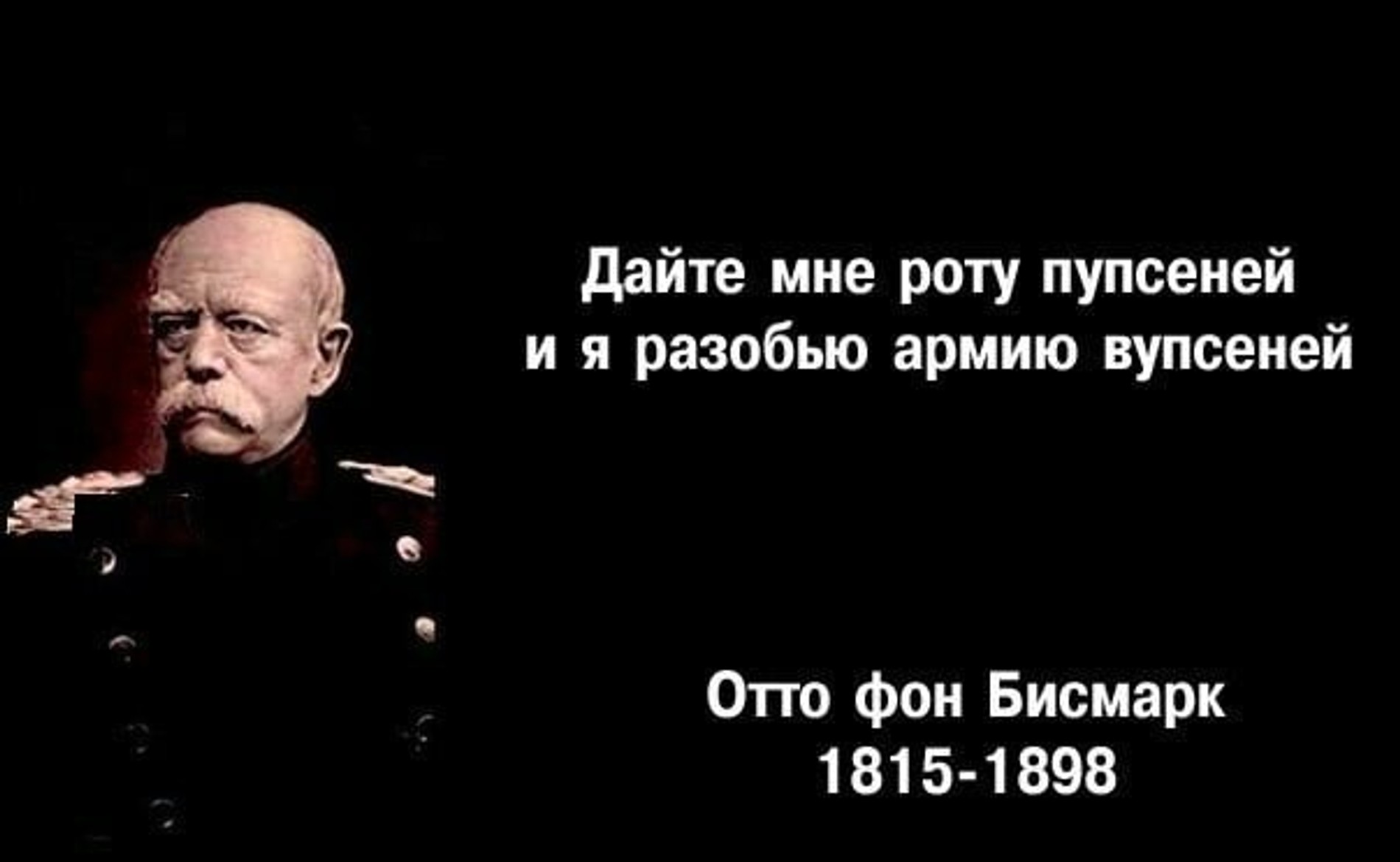
Голос автора растворился в пространстве всеобщего вопля. И неслучайно: о «смерти автора» давно предупреждал французский культуролог Ролан Барт. К двадцатому веку писатель утратил свои основные функции, превратившись из пророка в щелкопера. Рассказчик стал анонимом, перекладывающим слова с места на место. Тексты зажили своей жизнью — отныне читатель был волен интерпретировать каждое произведение так, как ему заблагорассудится. Теперь любую цитату можно было вменить Конфуцию или Марксу.
Теоретики постмодерна провозгласили гибель метанарративов — грандиозных абстракций, с помощью которых мы привыкли описывать действительность. Любовь и смерть перестали существовать, коррозия перекинулась на литературу. Когда-то Марсель Пруст ушел от линейного повествования, не устояли и статусы ВК. Пользователи стали глумиться над байкой про Альберта Эйнштейна — та транслировала обстоятельные прения профессора и студента о добре и зле. Популярно было начало: «Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого».
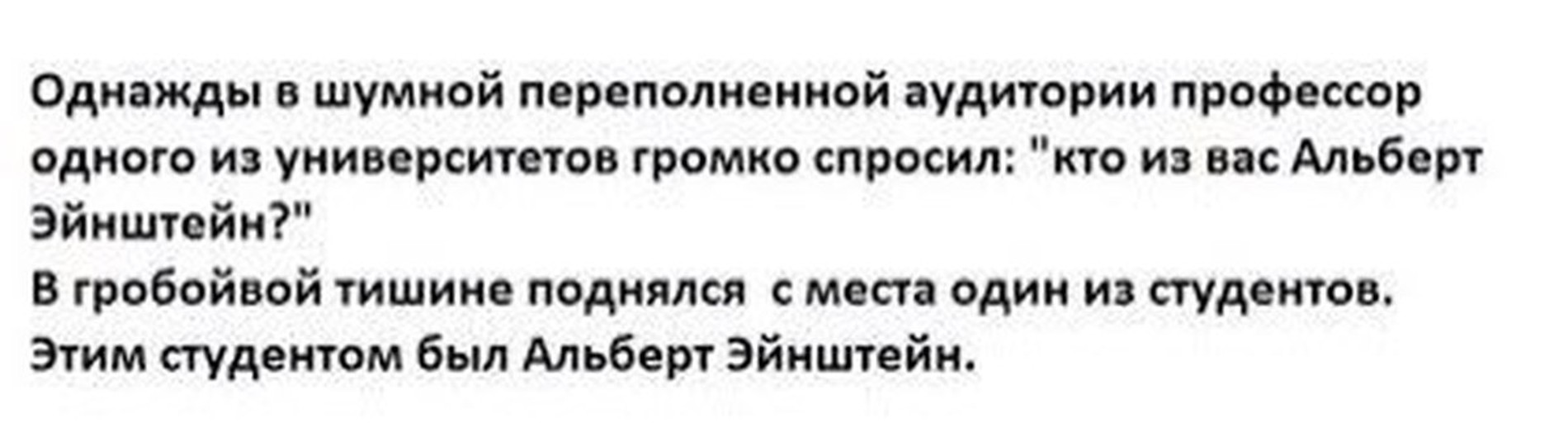
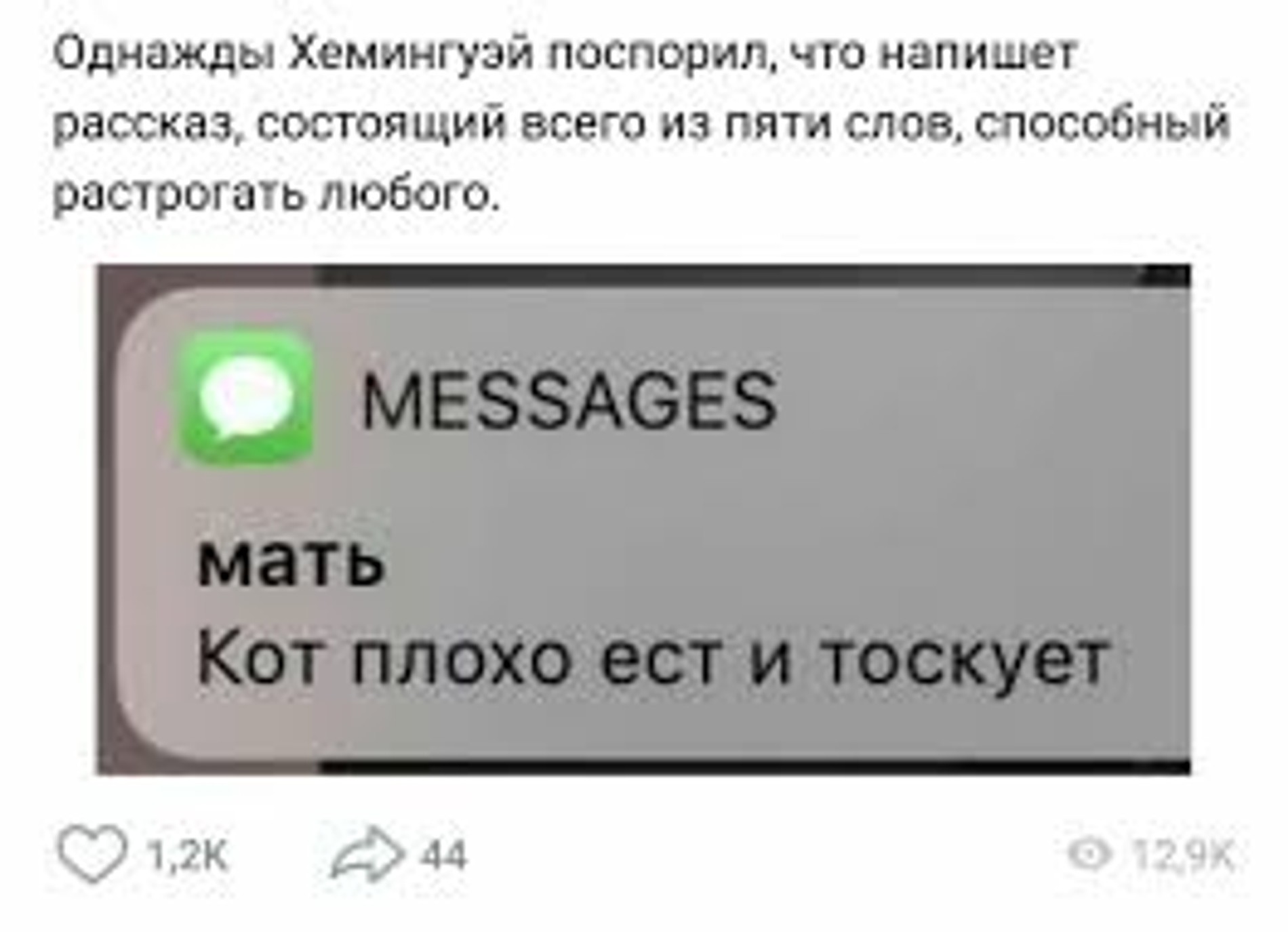
Но попрали не только и не столько статус автора и мысли о вечном: под угрозой оказалось существование самих цитат. Какофоническое звучание пародий выдавило глубокомысленные вирши о том, как плачет по ночам та, что идет по жизни смеясь. Афористичные записи пропали со стенок и больше не фигурируют в био Инстаграма, душевные излияния уступили место топорному «Всем привет! Я использую WhatsApp». Искренность сбежала из соцсетей, сверкая пятками.
Когда-нибудь нас оросит холодный душ забытых статусов о далеком и здешнем, насущном и пустом, жутко громком и запредельно близком. Но, в общем-то, за все это время мы должны были твердо усвоить: если любишь — отпусти.